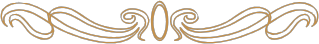роблематика этой статьи отчасти навеяна работой В.О. Ключевского «Евгений Онегин и его предки». Однако в отличие от великого предшественника, не соотносившего текст пушкинского романа в стихах с собственными социологическими построениями, я в данном случае буду опираться непосредственно на текст романа «Бесы» и постараюсь реконструировать представления самого Достоевского о генеалогических корнях его героя.
Достоевский, по его собственному признанию, изобразил в Ставрогине «русское и типическое лицо». При этом писатель счел необходимым уточнить: «Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский (известного слоя общества)»1. Под «известным слоем общества» подразумевалась русская аристократия послепетровского времени. Между тем социально-генеалогические отношения Ставрогина в окончательной редакции романа даны приглушенно. Отказ от прямых характеристик в окончательном изображении героя сам писатель объяснял художественными причинами: «Этот характер записан у меня сценами, действиями, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо» (XXIX (1), 142). Весной 1872 г., когда уже были напечатаны две части романа и возникли цензурные трудности с главой «У Тихона», Достоевский писал Н.А. Любимову, что Ставрогин – «это целый социальный тип (в моем убеждении), наш тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтобы обновиться и вновь начать верить» (XXIX (1), 232).
В окончательной редакции романа типологическая характеристика Ставрогина дается через его сравнение с декабристом Луниным. Оба они представляют разные поколения единого социопсихологического типа. Источник этого места давно установлен2. Это «Отповедь» декабриста П.Н. Свистунова декабристу А.Е. Розену и писателю С.В. Максимову по поводу изображения декабристов в их сочинениях. Полемика, начавшаяся между ними в 1870 г. (то есть примерно за год до публикации «Отповеди»), прямого отношения к Лунину не имела и, видимо, не очень заинтересовала Достоевского. Его внимание привлек блестящий в литературном отношении портрет Лунина, написанный Свистуновым как пример «весьма рельефной и привлекательной индивидуальности»3. «Отповедь» Свистунова была опубликована в первом номере «Русского архива» за 1871 г., а в 92-м (апрельском) того же года томе «Русского вестника» появилась пятая глава первой части «Бесов» «Премудрый змий», где Ставрогин сравнивался с Луниным4.
Поражает оперативность, с которой Достоевский отреагировал на публикацию Свистунова. Возможно, это объясняется тем, что рассуждения о декабристах занимали значительное место в начальных вариантах романа, но в силу недостаточной художественной мотивированности в окончательную редакцию не вошли. Свистунов, можно сказать, преподнес Достоевскому подарок. Он нарисовал созвучный его мыслям портрет декабриста: «Должно полагать, что быстрый переход из великосветского петербургского омута в то одиночество, в коем очутился он в Париже, имел на него отрезвляющее действие. В душе его, пресытившейся мирской суетностью, возникли неизбежные вопросы о призвании человека и о загробной жизни. Он почувствовал недостаток верования и, убедившись в необходимости его восполнить, со свойственной ему решительностью приступил к делу и обратился за помощью к пресловутым иезуитам Розавелю и Гринвелю, о которых в Сибири говаривал часто со мною, потому что и я их знал»5.
Недостаток веры – это одна из основных психологических черт Ставрогина, а поскольку Ставрогин задуман Достоевским как лицо типическое, то безверие становится одним из признаков всего социального слоя. В черновиках «Бесов», размышляя о декабристском типе еще до публикации Свистунова, Достоевский писал: «Он тянул оброк, чтобы на него жить в Париже, слушать Кузена и кончить чаадаевским или гагаринским католицизмом» (XI, 87). Эти размышления и аналогичные «черновые» мысли в процессе работы над романом ушли в подтекст, а на поверхности остались модификации одного и того же социального типа от Лунина до Ставрогина. Хроникер, основываясь на мемуарах Свистунова6, показывает различия между бесстрашием Лунина и Ставрогина. Для Лунина важна победа над собственным страхом: «Сомнения нет, что эти легендарные господа способны были ощущать, и даже, может быть, в сильной степени чувство страха – иначе были бы гораздо спокойнее и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей натуры. Но побеждать в себе трусость – вот что, разумеется, их прельщало. Беспрерывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя, – вот что их увлекало. Этот Л-н еще прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, которые находил несправедливыми. Стало быть, многосторонне понимал борьбу; не с медведями только и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера» (X, 165).
Силой характера, которую Лунин выковывал в борьбе с самим собой, Ставрогин наделен изначально. Он получил ее от своих предков, можно сказать, на генетическом уровне, и теперь не знает, что с ней делать. В письме Даше он пишет: «Я пробовал везде свою силу. Вы мне советовали это, “чтоб узнать себя”. На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспредельною. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата; я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу – вот чего никогда не видел, не вижу и теперь» (X, 514).

М.С. Лунин. Акварель Н.А. Бестужева. 1836 г.
Как писал Ю.М. Лотман, «тот, кто подвержен стыду, не подвержен страху, и наоборот»7. Если Лунин борется с собственным страхом и выходит из этой борьбы победителем, то Ставрогин пытается избавиться от стыда. Он испытывает «упоение <…> от мучительного сознания низости» (XI, 14). В этом ему видится не просто своеобразное наслаждение, но и «какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и ... смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет...» (X, 187).
Такое преступление для своего героя Достоевский нашел не сразу. Возможно, что изначально планировалось убийство матери. В одной из ранних редакций была вписана фраза «Сын убил мать» (XI, 67). Но Достоевский почти сразу же отказался от этого мотива, сделав его всего лишь метафорой: «Князь хочет трудиться (Князь-гордец!) и убивает этим мать свою» (XI, 98). Далее эта метафора приобретает более глобальный характер и распространяется на нигилистов, которые «деньги взяли за то, что обязались зарезать мать свою (Россию)» (XI, 147)8. В окончательный текст этот мотив не вошел. Вместо убийства матери герой Достоевского должен был изнасиловать и довести до самоубийства девочку. Однако ввиду того что глава «У Тихона» не вошла в окончательную редакцию романа, читателю до публикации этой главы оставалось лишь догадываться, какое преступление совершил Ставрогин.
Для понимания психологии героя важно не само преступление, а то, как оно им воспринимается. Ставрогин впервые в жизни испытал чувство страха. Умозрительная идея, заключающаяся в совершении постыдного преступления и затем бесстыдного его обнародования, полностью разрушается, и герою становится страшно. Иными словами, освобождая себя от стыда, Ставрогин попадает под власть страха: «Я никогда не чувствовал страха и, кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни после ничего не боялся. И уж особенно Сибири, хотя и мог быть сослан не однажды. Но в этот раз я был испуган и действительно чувствовал страх, не знаю почему. В первый раз в жизни, – ощущение мучительное» (XI, 17).
Достоевский наделил Ставрогина глубоким пониманием причин деградации русской аристократии. В черновиках романа эти идеи образуют целостную систему взглядов. Князь, прообраз Ставрогина, суть преобразований Петра I видит в том, что «он взял камень, плотно лежавший, и ухитрился его поставить на кончик угла. Мы на этой точке стоим и балансируем. Ветер дунет, и полетим. И чем дальше, тем хуже, потому что до того уже далеко от национального начала ушли, что и потребности воротиться не ощущаем, не понимаем даже, что оно значит и для чего надо быть самостоятельным. Не понимаем даже, для чего надо свою почву любить» (XI, 156 — 157). Петровская реформа прошлась по верхним слоям общества, не затронув народ. Шатов, повторяющий идеи Князя, говорит: «Народ избавили от немецкой реформы и махнули на него рукой. Ему даже бороду позволили тотчас опять носить. Народ не сочли тогда чем-нибудь важным и стали смотреть на него как на материал и плательщиков подушной. Народ непосредственно избавили с самого начала от реформы и предпочли смотреть на него как на материал. Опекали его сильно, это правда, но внутреннюю, собственную жизнь его ему оставили целиком, и хоть много он пострадал, но кончил тем, что страдание свое возлюбил. Но весь верхний слой России кончили тем, что переродились в немцев, и оторвавшиеся кончили любовью к немцам и презрением и ненавистью к своим» (XI, 112).
Русский европеизм для Достоевского ассоциируется с духовным рабством («наш либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому сапоги вычистить» – XI, 169) и ленью («европейничание первым делом несет с собою лень, ничего неделание, снимает обязанности и заботы, отнимая инициативу и предлагая копировку, тупость, лакейство мысли» – XI, 157). Русский дворянин, получив материальную свободу, стал духовным рабом, а русский крестьянин, закабаленный экономически, сохранил духовную свободу. История в целом, по мнению Достоевского, движется духовным, а не материальным началом. Экономическая независимость еще не делает человека свободным, точно так же как экономическое порабощение не может духовно независимого человека превратить в раба. Поэтому «дело не в промышленности, а в нравственности, не в экономическом, а нравственном возрождении России» (X, 196). В этой связи сама идея декабристов освободить народ представляется Достоевскому не только праздной, но и абсурдной. Раб не может освободить свободного человека. Да и народ не принял бы от декабристов свободы. Один из черновых героев, Ш<апошни>ков, говорит: «Бьюсь об заклад, что декабристы непременно бы освободили тотчас русский народ, но непременно без земли – за что им непременно сейчас же народ свернул <бы> головы» (X, 88). Позже в «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский уточнит, что декабристы просто бы не успели освободить народ. «Они исчезли бы, не продержавшись и двух-трех дней. Михаилу, Константину стоило показаться в Москве, где угодно, и всё бы повалило за ними». Восстание на Сенатской площади было, по мнению Достоевского, «диким делом, западническою проделкою, зачем мы не лорды» (XXIV, 82)9. Декабристов отличает «совершенное непонимание народа», в отличие от Пушкина, который «писал “по манию царя” еще до декабристов и понимал, в чем дело» (XXII, 143). История подтвердила правоту Пушкина. В черновиках «Бесов» Ш<апошни>ков, полемизируя с Грановским, говорит: «Вспомните тоже, что царь освободил народ, а не вы. Эта мысль у царей родилась, а декабристу Чацкому и в голову не приходила. Господи, а ведь они и не понимали, что цари не только их либеральнее и передовее, потому что цари всегда вместе с народом шли, даже при Бироне» (XI, 87). «Царь для народа есть воплощение души его, духа» (XI, 167).
Позже Достоевский откорректирует эту мысль своего героя и напишет, что и русским царям, «с Екатерины начиная», были свойственны «западнические проделки». «Но Екатерина была гениальна, а Александр – нет» (XXIV, 82). Таким образом, создается единое национальное пространство, объединяющее в себе народ, монархию и дворянство. В этом плане декабристы, несмотря на их «необразованность, потребность впутаться, мерзавца, как Пестель, считать за человека», являются лучшими представителями русского дворянства. С их исчезновением «исчез как бы чистый элемент из дворянства» (XXIV, 82).
Ставрогин – в представлении Достоевского – последний представитель русской европеизированной аристократии. Это обстоятельство открывает перед ним возможность подвести черту, понять трагедию сословия, к которому он принадлежит. Но одно понимание, не подкрепленное верой, оборачивается его личной трагедией. Он оказывается перед любимым Достоевским образом двух бездн – совершенной верой и совершенным атеизмом, – не погружаясь ни в одну из них. Такое положение героя между верой и безверием интерпретируется апокалиптическим текстом: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих» (XI, 11).
Мысли Князя в черновиках также приобретают апокалиптический смысл. С отменой крепостного права должны исчезнуть сословия, а вместе с ними и революции: «Бунты могли быть, лишь когда существовали сословия: московский, 14 декабря (народ всегда восстанав<ливал> это). С освобождением крестьян кончилось всё. <…> Россия есть лишь олицетворение души православия (раб и свободь). Христианство. В ней живут крестьяне» (XI, 167).
Про Ставрогина можно сказать, как и про князя Мышкина, что он «последний в своем роде». «Вы барич, последний барич», – говорит ему Шатов. На Ставрогине заканчивается история русской аристократии. Барство уже не может существовать ни экономически, так как лишено возможности присваивать крепостной труд, ни нравственно, так как, по мнению Достоевского, должно осознать гибельность для России европейского пути.
***
В 1892 г. Лев Толстой написал Н.Н. Страхову, что в героях Достоевского, «исключительных лицах, не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу, чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее, роднее»10. Поэтому не стоит удивляться, обнаруживая потомков Ставрогина в иноязычных культурах.

Эскиз М.В. Добужинского к спектаклю «Николай Ставрогин» по роману Ф. М. Достоевского «Бесы». 1913 г.
В 1969 г. на экраны вышел фильм Лукино Висконти «Гибель богов». Режиссер, по его словам, свою задачу видел в том, чтобы «рассказать историю семьи немецких сталепромышленников в годы, когда к власти пришли нацисты»11. Главный герой, Мартин фон Эссенбек, показан как сексуальный извращенец. По сценарию, «он по-детски назойлив. Порочный и озлобленный, но его злоба какая-то вялая, старческая и одновременно сатанинская»12. Потеряв отца в раннем возрасте, Мартин стал объектом подавления и манипуляций со стороны матери и ее любовника Фредерика, управляющего заводом Эссенбеков. «Родство» Мартина со Ставрогиным проявляется в сцене изнасилования еврейской девочки. Этот эпизод Висконти, по его словам, «снимал под впечатлением исповеди Ставрогина»13. Как и Ставрогин, Мартин сам рассказывает о своем преступлении, и так же испытывает сильный страх, без малейшего чувства стыда. Но если у Ставрогина это страх перед разверзшейся бездной греха, то у Мартина это детский страх наказания.
Поведение Мартина легко поддается фрейдистскому анализу, на что неоднократно обращали внимание критики. Сам Висконти считал это не главным: «Фрейда можно увидеть везде и во всем, в том числе и в этом фильме»14. Здесь возможна и другая интерпретация. Мартин живет в мире насилия. Это единственный доступный ему культурный язык. Поэтому пробудившаяся в нем природная сексуальность находит выражение на языке насилия, а не любви. На этом же языке строятся его отношения с матерью. Вместо любви в нем живет желание убить ее, что отражается в его детских рисунках.
Служба в СС переворачивает мир Мартина. Теперь он получает возможность подавлять тех, кто подавлял его. Он насилует свою мать, а затем убивает ее и отчима. В условиях нацистского государства для Мартина все складывается хорошо. Он окончательно убеждается в полной безнаказанности. Однако нацизм делает ставку не на таких идиотов, как Мартин. Ему всего лишь отводится низменная роль «ядовитой змеи». Более сложный случай представляет его двоюродный брат, семнадцатилетний Гюнтер, – талантливый музыкант, человек искусства, интеллектуал. Он ненавидит нацизм изначально, но постепенно заражается им. В роли совратителя выступает эсэсовец Ашенбах, в котором критики склонны усматривать черты Петра Верховенского. Гюнтер возненавидел свою семью, и теперь важно, куда будет направлена его ненависть. И здесь руководить им берется Ашенбах: «Ненависть, Гюнтер… у тебя есть ненависть. Молодая ненависть… чистая… абсолютная… Но будь осторожен. Этот кладезь гнева и энергии слишком огромен, чтобы превращать его в повод для личной мести… Это была бы слишком большая роскошь, бессмысленная трата времени… <…> Ты пойдешь со мной, Гюнтер. Мы научим тебя владеть этим твоим беспредельным богатством, использовать его как можно правильнее»15.
Злоба, ненависть плюс извращенность становятся психологической почвой для нарождающегося нацизма.
В Ставрогине Достоевский изобразил человека, в котором также накопилось много злобы, особенно в сравнении с его «предками»: «В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л-на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, разумная, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть» (X, 165).
Однако, в отличие от своих «потомков», Ставрогин не может найти применение своей злобе. Петр Верховенский хотел бы управлять ею, как Ашенбах берется управлять ненавистью Гюнтера, но у него явно не те возможности, что у нациста, находящегося у власти. Свое нежелание иметь дело с революционерами Ставрогин объясняет тем, что все-таки имеет «привычки порядочного человека» (X, 514).
Фильм Висконти охватывает незначительный исторический промежуток: от поджога рейхстага до «ночи длинных ножей» (1933 — 1934 гг.). Режиссера интересовал сам процесс зарождения нацизма. Зритель расстается с главными героями фильма в момент, когда они только лишь вступают в мир надвигающегося страшного зла. «Мартин и Гюнтер, – говорит Висконти, – представляют собой тех, кто довел нацизм до кульминационной точки, до Второй мировой войны, гибели целого мира, “окончательного” решения еврейского вопроса, до взятия Берлина, до самоубийства в бункере Гитлера и уничтожения его канцелярии»16.
В этих словах уже заложена тема нового произведения искусства, в котором бы отразились кульминация и итоги нацистского режима. Такое произведение сравнительно недавно увидело свет. Речь идет о романе франко-американского писателя, имеющего русские корни, Джонатана Литтелла «Благоволительницы»17. Главный герой романа, Максимилиан Ауэ, совмещает в себе черты Мартина и Гюнтера. Как и Мартин, он обременен комплексами, идущими из детства. В период полового созревания у него были инцестуальные связи с сестрой-двойняшкой. Застигнутый за этим занятием матерью, он стал объектом резких оскорблений: «Сцены следовали одна за другой, моя мать называла меня свиньей и дегенератом» (190). Оскорбления и унижения усиливаются во время учебы героя в закрытом колледже, где издевательства старших учеников над младшими носят характер сексуальных домогательств. Такое воспитание, наложенное на соответствующую наследственность (о чем речь ниже), превратило героя Литтелла, как и героя Висконти, в полового извращенца и нравственного урода, не способного различать добро и зло. Как и Мартин, Ауэ ищет компенсации в службе в СС. Как и Мартин, он убивает свою мать и отчима.
Возможно, сам автор «Благоволительниц» провоцирует в читателе психоаналитическое понимание характера главного героя. Его любимым произведением является «Электра» Софокла. Роль главной героини он исполнял в любительской постановке на сцене колледжа. Как и Электра, Ауэ испытывает любовь к отсутствующему отцу и ненависть к матери и отчиму.
Другая сторона личности Ауэ соотносится с Гюнтером. Как и Гюнтер, Ауэ – человек высокой культуры. Он прекрасно образован. У него диплом доктора права, он знаток античной литературы и философии, тонкий ценитель музыки и т. д. Но, как и в случае с Гюнтером, эти свойства не препятствуют нравственному падению героя. Ауэ не только совмещает в себе черты двух героев Висконти, но и напрямую соотносится автором со Ставрогиным. Вообще насыщенность этого французского романа цитатами из русской классики буквально бросается в глаза. Критики особенно выделяют важность цитатного пласта из Достоевского, узнаваемого, по словам Ж. Нива, до подробностей18. Особенно показательна в этом отношении одна из финальных сцен романа.
27 апреля 1945 г. Бои идут уже на улицах Берлина. Гитлер (через три дня он покончит с собой) у себя в бункере награждает офицеров СС. Повествование ведется от имени главного героя, оберштурмбаннфюрера СС Максимилиана Ауэ: «Фюрер приближался, и я продолжал за ним наблюдать. И вот он встал передо мной. Я с удивлением отметил, что его фуражка едва достает до уровня моих глаз, и это притом что я небольшого роста. Бормоча свой комплимент, он на ощупь искал медаль19. Его едкое и зловонное дыхание окончательно вывело меня из себя. Вынести это было невозможно. С горькой усмешкой я протянул руку и двумя согнутыми пальцами схватил его за нос и слегка тряханул его голову, как это делают с ребенком, который плохо себя ведет. Даже сегодня я все еще не могу объяснить, зачем я это сделал. Я просто не мог сдержаться» (880 — 881). В интернет-издании дается несколько иной вариант: «Тогда я наклонился и до крови укусил его за его шишковатый нос (nez bulbeux)». Издательский вариант отсылает к поступку Ставрогина по отношению к Гаганову-старшему, которого он протащил за нос. Электронная версия как бы объединяет в себе оба «подвига» Ставрогина: случай с Гагановым и случай с губернатором Иваном Осиповичем, которого Ставрогин кусает за ухо.
Вся эта сцена, видимо, нужна была автору для того, чтобы подчеркнуть преемственную связь своего героя с героем Достоевского. Как и Ставрогин, Макс Ауэ стоит выше своей среды. Им обоим свойствен гамлетизм. Князь (Ставрогин), по словам самого Достоевского, «мрачный, страстный, демонический и беспорядочный характер, безо всякой меры, с высшим вопросом, дошедшим до “быть или не быть”» (XI, 204). Гамлетовский антураж есть и у Ауэ: подобно шекспировскому герою, он говорит о расшатавшемся веке (autours de moi le monde entier basculait) и тоже решает вопрос «быть или не быть». Но, в отличие от Ставрогина, он не кончает с собой, а остается жить. Правда, между самоубийством Ставрогина и отказом от самоубийства Ауэ нет принципиальной разницы. Оба они не видят в самоубийстве решения своих проблем.
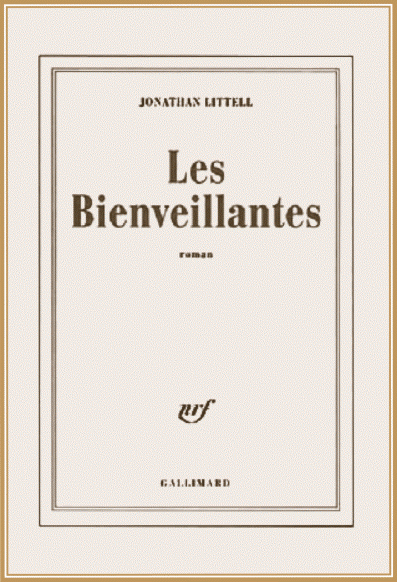
Обложка романа «Благоволительницы».
Ставрогин: «Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли как подлое насекомое; но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман – последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодования и стыда во мне никогда быть не может; стало быть, и отчаяния» (X, 514).
Ауэ: «Самоубийство, конечно, тоже выход. Но, по правде сказать, оно меня мало прельщает. Я об этом, само собой разумеется, давно думал, и если бы я решил к этому прибегнуть, то вот как я это сделал бы: я прижал бы к сердцу гранату и покинул бы этот мир с радостным треском. Прежде чем отпустить скобу, осторожно вынул бы чеку из маленькой круглой гранаты и улыбнулся, услышав негромкий звук пружинного механизма. Не считая сердцебиения это было бы последнее, что я услышал. Затем полное счастье или, во всяком случае, покой и стены моего кабинета, украшенные моими ошметками. Навести порядок – это уже дело уборщиц – им за это платят – тем хуже для них. Но, как я уже сказал, самоубийство меня не прельщает. Я не знаю почему. Впрочем, может быть, из старой философской морали, которая, несмотря ни на что, заставляет меня повторять, что мы здесь не для забавы. Тогда для чего же? Я этого не знаю, возможно, для того, чтобы продолжать жить, вероятно, чтобы убивать время, пока оно не убьет тебя» (11 — 12).
Близкие по сути размышления о самоубийстве двух героев вскрывают их безразличное отношение к факту собственного существования. Оба они как бы не живут. Лицо Ставрогина «“действительно походило на маску”, как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества» (X, 145), а сам он «вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить» (X, 40). Ауэ также напоминает автомат, а не человека. Это особенно хорошо видно в эпизоде, когда он добивает недостреленную еврейскую девушку. Жертва, уже почти неживая, сохраняет все признаки жизненной красоты, в то время как Ауэ сам себе представляется обыкновенной куклой (vulgaire poupée), набитой опилками (126).
Самоубийство Ставрогина, в отличие от хорошо продуманного самоубийства Кириллова, не является попыткой ни кому-то что-то доказать, ни даже поставить точку в решении своих проблем. Более того, из его предсмертного письма Даше вовсе не следует, что он собирается свести счеты с жизнью. Что же касается Ауэ, то он, не совершая самоубийства, подводит черту под своей прошлой жизнью убийством своего друга и благодетеля гестаповца Томаса Хаузера. После этого он меняет имя, национальность, профессию и даже сексуальную ориентацию.
Ставрогин, хотя и потерял, по словам Шатова, «различие зла и добра» (X, 202), готов отвечать за свои преступления или, во всяком случае, не оправдывает себя: «Я ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу» (XI, 14). Но преступления Ставрогина блекнут рядом с преступлениями эсэсовского интеллектуала. Ауэ – двойной преступник. Во-первых, он ответствен за геноцид и, если бы предстал перед трибуналом, был бы повешен. Но кроме этого, он преступник перед нацистским государством. Он вступает в инцест со своей сестрой, затем становится гомосексуалистом, что, согласно указу Гитлера «О поддержании нравственности в СС и полиции», каралось смертной казнью (164). Он убийца собственной матери (мотив, отброшенный Достоевским, в романе Литтелла, как и в фильме Висконти, стал краеугольным камнем), а также своего отчима.
Преступления Ставрогина – следствие «той вековечной, священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение» (X, 35). Эта тоска, внушенная юному Ставрогину его наставником Степаном Трофимовичем Верховенским, в свою очередь, стала следствием трагического разрыва с собственным народом.
Склонность к садизму у Макса Ауэ заложена на генетическом уровне. Его отец был «сорвавшийся с цепи зверь, человек без веры и тормозов». Во время Первой мировой войны «он приказывал распинать на деревьях изнасилованных женщин и собственноручно бросал живых детей в горящие амбары. Пленных врагов он отдавал своим людям, обезумевшим зверям, и смеялся и пил, глядя на их мучения» (807 — 808). Своего отца Ауэ почти не помнит. Тот бросил семью, когда Макс был еще ребенком. Поэтому можно говорить лишь о генетической наследственности, формирующее воздействие которой на личность оказалось сильнее воздействия культуры. Свойственная герою привычка к систематическому чтению и любовь к литературе, выработанная с детства, не выправили ситуацию. Скорее, как и в Ставрогине, культура обострила в нем ощущение тоски (spleen) и одиночества. Тоска воспринимается Ауэ как своего рода защитная реакция против темных сторон своей психики – «занавес, опущенный разумом, чтобы скрыть грязный животный инстинкт» (316). Выход из одиночества Ауэ ищет в нацизме. Ставрогин сближается с революционерами. Причем оба они играют в этих сферах интеллектуальные роли. Ауэ пишет проекты и аналитические записки для руководства СС. Ставрогин – устав революционной организации.
«Предки» Ставрогина, по мнению Достоевского, не ощущали, в отличие от него, весь трагизм разрыва со своим народом. Даже народолюбие Чацкого, о котором речь идет в черновиках, не вызывает у Достоевского серьезного отношения. По его мнению, герой Грибоедова приходит в отчаяние не от отсутствия связи с народом, а «от московской жизни высшего круга, точно кроме этой жизни в России и нет ничего. Народ русский он проглядел, как и все наши передовые люди, и тем более проглядел, чем более передовой» (XI, 87).
По-настоящему трагедию раскола аристократии и народа осознал Ставрогин. Он понял то, чего не понимали его предки: нельзя верить в Бога, не любя свой народ, и нельзя любить свой народ, не веря в Бога. Получился замкнутый круг, из которого Ставрогин не может найти выход. Эти идеи он внушает Шатову, и тот принимает их в догматически упрощенной форме. По словам Ставрогина, «у всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать». И далее: «Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою» (X, 199 — 200).
Критики «Бесов» не могли пройти мимо подобных суждений. Мережковский писал о них как о «национально-исключительном, суженном, “обрезанном” жидовствующем православии самого Достоевского»: «Мы думали, что христианство – истина вселенская; но вот оказывается, что христианство – истина одного народа избранного, русского народа-богоносца, нового Израиля»20. Связь этих ставрогинских идей с черносотенством отмечали С.Н. Булгаков21 и Н.А. Бердяев22.
Доктор Ауэ «наследует» эти идеи, правда, в несколько модифицированном виде. Он не только заменяет русский народ немецким, но и подводит под народность не теологическую, а юридическую основу. Ему, в отличие от Ставрогина, не надо верить в Бога, чтобы поверить в немецкий народ. Поэтому вопрос, который пытаются решить Шатов и Ставрогин: народ есть Бог или Бог есть народ, для Ауэ не имеет значения. Он скорее склонен видеть здесь альтернативу: либо народ, либо Бог. Для него важно то, что в рейхе немецкий народ (Volk) является источником права. В этом он видит особое достижение национал-социализма, сумевшего подвести историческую основу под абстрактное понятие нации. Изначально в качестве правовой референции выступала воображаемая идея всемогущего и невидимого Бога. С появлением королей эта абстрактная идея воплотилась в физическом лице. Короли стали «суверенами божественного права» (souverain de droit pin). Так продолжалось до французской революции. «Когда король лишился головы, суверенитет перешел на Народ или Нацию и утвердился на фиктивном “договоре”, лишенном исторической или биологической основы и в итоге стал таким же абстрактным, как и идея Бога» (544). «Ошибка» французских революционеров заключалась в том, что они изобрели «наднациональное абсолютно мифическое право» (522) и тем самым как бы вернулись к божественному праву. Только место Бога занял народ. Это близко к тому, что проповедует наученный Ставрогиным Шатов. Достижение национал-социализма, по мнению Ауэ, в том, что абстрактную идею нации он закрепил на исторической основе. Сувереном стал не просто народ, а немецкий народ, наиболее полным воплощением которого является фюрер. «Этот человек никогда не говорил от своего собственного имени, случайные черты его личности мало что значили. Он играл роль оптического фокуса, улавливая и сосредоточивая волю народа (Volk), чтобы направлять ее в надлежащую точку» (636).
Поскольку фюрер наиболее точно выражает идею народа, все представители этого народа обязаны ему подчиняться. Другой морали не существует. Люди, основывающие мораль не на приказах фюрера, а на религии, для Ауэ являются предателями своего вождя и своей страны (545). Вне немецкого народа конституционное право не действует, что освобождает немцев от каких-либо ограничений в отношении других народов. Если исключительность русского народа Шатов обосновывает религиозно (русский народ как хранитель единственно правильной веры), то исключительность немецкого народа национал-социалисты основывают на расовой и языковой теориях. В романе выведен лингвист Фосс, который излагает эти теории и разоблачает их абсурдность. На вопрос Ауэ: «Что вы можете сказать о понятии “первородный”?», – Фосс отвечает: «Первородный – это фантазм, скорее психологические или политические претензии, чем научная концепция. Возьмите, например, немецкий язык. Еще до Мартина Лютера утверждали, что это первородный язык, так как, в отличие от романских языков, он не имеет заимствованных корней. Бред некоторых теологов доходил до того, что они утверждали, что Адам и Ева говорили по-немецки и что иврит появился позже. Это представление полностью иллюзорно, даже если корни кажутся автохтонными, так как в действительности он непосредственно происходит от индоевропейских языков кочевников. Что касается нашей грамматики, то она полностью структурирована латынью. Тем не менее в нашем культурном воображении эти идеи очень прочно укоренились благодаря отличительной способности немецкого языка пополнять лексический запас за счет собственных корней. <…> Это нас слишком далеко заводит в представлениях о самих себе: Deutschland – единственная страна в Европе, название которой не происходит ни от названия местности, ни от названия народа, как, например, у англичан или французов. Это страна «народа как такового». Deutsch – это адъективная форма от старонемецкого Tuits, “народ”. Именно поэтому все наши соседи нас называют по-разному: Allemands, Germans, Duits, Tedeschi по-итальянски, что происходит от Tuits, или Niemtsy, как здесь в России, что буквально означает “немые”, те, кто не умеет говорить, совсем как Barbaros по-гречески. В любом случае наша расовая идеология и современная völkisch строятся на этих очень старых немецких притязаниях» (252 — 253).
Эти «старые немецкие притязания» очень напоминают лингвистические взгляды А.С. Шишкова и его последователей, в частности Пестеля. Вполне возможно, что каким-то образом они в свое время на них повлияли. Но если в истории русской культуры шишковисты остались как некий лингвистический курьез, то в нацистской Германии эти идеи обернулись большой кровью.
Ауэ соглашается с правовой стороной нацизма, основанной на парности Volk – Führer, но не может заставить себя до конца поверить в мировоззрение нацизма, подобно тому как Ставрогин не может заставить себя поверить в Бога: «Наша пропаганда постоянно твердила, что русские Untermenschen, недочеловеки, но я отказывался в это верить» (101).
Самые страшные преступления Ауэ – не те, которые он совершает против немецких законов (инцест, гомосексуализм, убийства близких и т. д.), а те, которые он совершает, несмотря на недостаток собственной веры в нацизм, выполняя свой нацистский долг, во имя народа (Volk): участие в массовых расстрелах, уничтожение людей в лагерях, газовых камерах и т.д.
Все индивидуальные преступления так или иначе мотивированы. Инцест и гомосексуализм – это извращения, на грани преступности и заболевания. Убийство матери он совершает после ранения в голову в беспамятстве. Он ее ненавидит, но само убийство случайно. Убийство друга и благодетеля Ауэ совершает ради спасения собственной шкуры. Но у этого благодетеля, штандартенфюрера гестапо, у самого руки в крови, и по нему плачет эшафот. Преступления, которые Ауэ совершает как эсэсовец, для него не имеют внутренней мотивации. В этом он близок к Ставрогину. Тот насилует четырнадцатилетнюю девочку не потому, что он педофил. Ставрогин полностью осознает всю мерзость и позор своего поступка. Но он, как и Раскольников, желает испытать себя. Сможет ли он вынести весь позор своего преступления, огласив его публично и при этом не раскаявшись? Максу Ауэ не доставляет удовольствия истреблять евреев. Классифицировав со свойственным ему педантизмом эсэсовских палачей по их отношению к массовым убийствам, он не находит себе места ни в одной из групп. Но он делает сознательный выбор в пользу национал-социализма. Ауэ – немец лишь наполовину, по отцу. По материнской линии он француз, и его довоенная жизнь примерно поровну делится между Германией и Францией. Его выбор Германии определяется не только семейными отношениями (он ненавидит мать-француженку и, как ему кажется, любит отца), но и идеологией. Его больше привлекает нацизм, чем принципы 1789 г. Сам он объясняет это радикальностью своего мышления: «Я всегда стремился мыслить радикально. Теперь, когда Государство, Нация также выбрали радикальное и абсолютное, мог ли я именно в этот момент повернуться спиной, сказать нет и предпочесть в конечном счете буржуазный комфорт и относительную безопасность общественного договора? Конечно, это было невозможно. И если радикальность оборачивалась пропастью, а абсолютное – абсолютным злом, тем не менее нужно было, по моему глубокому убеждению, идти до конца с широко открытыми глазами» (95).
Столь же радикально мыслит и Ставрогин. Он готов быть либо святым, либо преступником. Середины для него не существует. При этом если зло, на которое сознательно идет Ауэ, есть результат его желания полностью
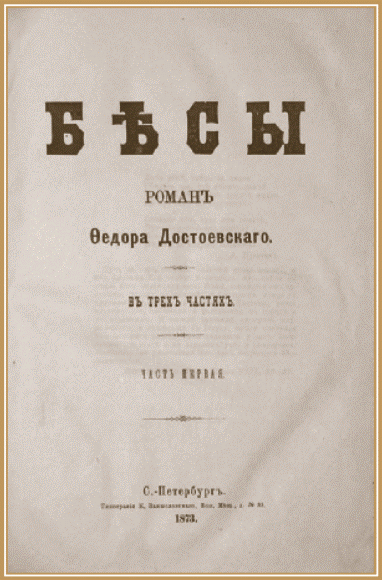
Издание романа Ф.М. Достоевского «Бесы». 1873 г.
слиться с избранным народом, то зло, совершаемое Ставрогиным, есть результат его разрыва со своим народом. Но, погружаясь в мир зла, оба героя продолжают носить в своей душе некий идеал человеческого существования. У Ставрогина – это миф о золотом веке по сюжету картины Клода Лоррена «Асис и Галатея». У Ауэ более земные представления об идеале. Он бы хотел заниматься литературой: писать или преподавать, «лишь бы жить среди прекрасных и тихих вещей – великих творений человеческого духа. <…> А еще я бы хотел играть на пианино» (28).
Есть определенное сходство и в самой поэтике персонажей. Оба они даны как бы в системе зеркал. Повествование в одном случае от хроникера, а в другом от первого лица исключает прямые авторские характеристики. Ставрогин раскрывается через отношения к нему других персонажей. Внешне это хорошо воспитанный молодой человек. О его второй, тайной, жизни разные персонажи осведомлены в разной степени, и читателю предлагается как бы собрать мозаику из приоткрывающихся подробностей его преступной биографии. При этом каждый что-то знает, о чем-то догадывается, но никто не имеет полной картины. Широкий диапазон рецептивных стереотипов: принц Гарри, Иван-царевич, Гришка Отрепьев и т. д. – затрудняет формирование определенного читательского восприятия.
В романе-исповеди «Благоволительницы», казалось бы, такой принцип выдержать невозможно, так как единственный способ раскрытия героя – это самораскрытие. Тем не менее герой-рассказчик сознательно стремится показать себя не с лучшей или худшей стороны, а многосторонне. И дело здесь не в банальном стремлении к объективности, а в самом понимании природы человека. По мнению Ауэ, «если человек по своей природе и не добр, как этого хотелось бы некоторым поэтам и философам, то он и не зол. Добро и зло – категории, которые существуют лишь применительно к действиям одного человека по отношению к другому. Но они абсолютно неприменимы и бесполезны, когда приходится судить о происходящем в человеческом сердце» (544). Если у Достоевского «дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей», то, с точки зрения персонажа Литтелла, добро и зло перемалываются в сердце человека в некую единую массу, не подлежащую нравственному суду. Отсюда вывод: «Бесчеловечного, простите меня, не существует. Есть только человеческое и еще раз человеческое» (542). Если это перевести на язык Достоевского, то получится, что дьявол и Бог не борются в сердце человека, а заключили там союз. Поэтому добро и зло раскрываются лишь через взаимоотношения людей. Для того чтобы подвергнуть самого себя нравственному суду, Ауэ приходится раздваиваться и ощущать себя одновременно актером, играющим роль, и зрителем, критически оценивающим его игру: «Все мои поступки становились спектаклем для меня самого. Само мое мышление (réflexion) было лишь одним из способов самолюбования. Бедный Нарцисс, красующийся перед собой, но не обманывающийся на свой счет» (414). Это театр одного актера и одного зрителя. Единственным человеком, который мог выводить Ауэ из этого тупика (impasse), была его сестра Уна в период их половой близости. Когда они расстались, Ауэ продолжал смотреть на себя ее глазами. Но при этом он прекрасно понимал, что это иллюзия и взгляд на самого себя, который он принимал за взгляд сестры, на самом деле был его собственным взглядом. Желание во что бы то ни стало сохранить в себе свою сестру стало причиной его гомосексуализма. Он хотел испытать то, что испытывала Уна с ним, и тем самым сохранить этот «театр» внутри себя.
Если читатель «Бесов» с трудом может составить целостное представление о Ставрогине – его облик ускользает от однозначных оценок, – то герой Литтелла, взявшись рассказывать о себе, сам не может дать точный ответ на вопрос, «что же он такое». Всю жизнь чувствуя на себе «внешний взгляд, эту критическую видеокамеру» (414), он утратил собственную идентичность. И поэтому не может представить себя читателю так, как он считал бы нужным. Он чувствует усталость и разочарование, но не испытывает ни раскаяния, ни угрызений совести. То же самое можно сказать и о Ставрогине.
Ставрогин, по замыслу Достоевского, потерял всё: свой народ, народность, веру и Бога (XIX, 145). Но, в отличие от Петра Верховенского, который также всего этого лишен, Ставрогин наделен, опять же по словам Достоевского, «совестливостью», позволяющей ему осознать трагизм и безысходность своего существования. Животными являются Верховенский и его компания. Они не бесы23, как это часто представляют, а свиньи, в которых бесы вселились, выйдя из человека: «Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых» (XIX, 145).
Ауэ при всех творимых им мерзостях тоже остается человеком. Вряд ли можно согласиться с Ж. Нива, утверждавшим: «герой “Благоволительниц” – даже не Великий Грешник, а обыкновенное животное, оказавшееся в утопающем в грязи и крови Берлине»24. Человеческое и животное начала в нем не борются друг с другом, а вполне мирно сосуществуют, что уже заявлено в его жизненном кредо: «Единственно необходимыми вещами для жизни человека являются воздух, пища, питье, испражнения и поиск истины. Остальное факультативно» (13). Ауэ действительно ищет истину. Чтение является для него жизненной потребностью, но оно не делает его лучше. Отрицая онтологический характер добра и зла, Ауэ приходит к парадоксальному на первый взгляд выводу, что в садизме эсэсовцев проявляется не животное начало, а именно человеческая природа: «Беспричинный садизм, неслыханная жестокость, с которыми некоторые люди обращались с заключенными перед их казнью, были не чем иным, как проявлением чудовищной жалости, ощущаемой ими и, за неимением возможности проявиться как-то иначе, обращенной в бессильную и беспричинную ярость, почти неизбежно направленную против тех, кто был ее первопричиной. Массовые казни на Востоке парадоксальным образом доказывают ужасное и нерушимое единство человеческого рода» (141 — 142).
Ущербность Ауэ в том, что поиск истины для него – чисто интеллектуальный процесс, лишенный нравственных ориентиров. Отсюда невозможность раскаяния и нравственного возрождения. Ставрогин уходит из жизни, потому что он не может покаяться, но он вовсе не отрицает саму необходимость покаяния. Ауэ продолжает жить в других условиях, но внутренне остается тем же самым. Он говорит о необходимости «душевной гигиены» (hygiène mentale), но эта процедура понимается им не как метанойя, а как вполне эгоистическое желание проверить, способен ли он еще чувствовать и страдать: «Любопытное упражнение» (19).
В Ставрогине Достоевский стремился показать предел человеческого падения. М.М. Бахтин верно заметил, что «Печорин при всей сложности и противоречивости по сравнению со Ставрогиным представляется цельным и наивным»25. Продолжая эту мысль, можно сказать, что Ставрогин при всей его сложности и противоречивости по сравнению с Ауэ представляется цельным и наивным. Наивность Ставрогина на фоне его литературного «потомка» в том, что он верит в необходимость покаяния и нравственного возрождения. Ауэ уже не верит ни во что. Он если и считает себя преступником, то преступником поневоле, и наказание ищет не внутри себя, как герои Достоевского, а ждет его извне, подобно царю Эдипу.
Ауэ лишен демонического обаяния Ставрогина. Его преступления объясняются либо выполнением преступных приказов, либо неизжитыми детскими комплексами. Но в любом случае они лишены метафизических тонов, окрашивающих преступления Ставрогина. Его не мучают проблемы добра и зла, веры и безверия. Конфликты XX в., неизвестные Достоевскому и отразившиеся в романе Литтелла, высветили такие стороны в темных уголках человеческой души, о которых автор «Бесов» при всем его «реализме», видимо, не подозревал.
--------------------------
1 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972 — 1990. Т. 29. Кн.1. 1986. С. 142 (далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страниц).
2 См.: Гофман Л.Г. Достоевский и декабристы // Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926. С. 198.
3 Свистунов П.Н. Сочинения и письма. Т. 1. Сочинения. Письма (1825 — 1840). Иркутск, 2002. С. 180.
4 Русский вестник. 1871. Т. 92. Апрель. С. 461.
5 Свистунов П.Н. Указ. соч. С. 183.
6 Здесь можно отметить литературную игру. Читатели журналов 1871 г. должны были в апреле еще хорошо помнить январскую публикацию и легко опознать источники рассуждений хроникера о Лунине. Такой переход от текстовой к затекстовой реальности порождал иллюзию живой хронологии.
7 Лотман Ю.М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме культуры // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2010. С. 665.
8 Любопытно отметить перекличку этих слов со словами В.А. Жуковского о декабристах, написанными через два дня после восстания на Сенатской площади: «Презренные злодеи, которые хотели с такою безумною свирепостию зарезать Россию» (Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. М., 2004. С. 244).
9 В другом месте «Дневника писателя» читаем: «Что такое 14 декабря? Бунт русских помещиков, пожелавших стать лордами, тем не менее к ним примкнуло всё великодушное и молодое» (XXIV, 146). Мысль о стремлении декабристов «стать лордами» перекликается с идеями Лунина, проводившего параллель между движением декабристов и событиями английской истории 1215 г., когда под давлением английских баронов на короля Иоанна Безземельного была подписана знаменитая Хартия вольностей: «Общество озаряет наши летописи, как союз Рюнимедский бытописания Великобритании». Отсюда делается малоутешительный вывод: «В несколько веков нашего политического быта мы едва придвинулись к той черте, от которой пошли англичане» (Лунин М.С. Письма из Сибири. М., 1987. С. 54, 66).
10 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 19. М., 1984. C. 250.
11 Висконти о Висконти. М., 1990. С. 139.
16 Висконти о Висконти. С. 144.
17 Littell Jonathan. Les Bienveillantes. Gallimard, 2006. (Далее ссылки на это издание в тексте с указанием страниц).
18 Нива Ж. Эринии Литтелла — судьи или судимые? // Иностранная литература. 2008. № 12. См. также: Зенкин С.Н. Джонатан Литтелл как русский писатель // Литтелл Дж. Благоволительницы. М., 2012. С. 786 — 799.
19 Речь идет о военном ордене Немецкого креста I степени (золотом).
20 Мережковский Д.С. Пророк русской революции (К юбилею Достоевского) // Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 326.
21 Булгаков С.Н. Русская трагедия // Булгаков С.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 519.
22 Бердяев Н.А. Духи русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1990. С. 72.
23 Если они и бесы, то метонимически, а не метафорически. Метафорически они – библейские свиньи.
25 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 343.